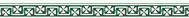Олимпиада добродетели
Время неумолимо и быстротечно. Промелькнули святочные дни. Позади на редкость крепкие и довольно долгие в этом году крещенские морозы. Февральские вьюги и праздник Сретения Господня, завершающий собой цикл Рождественских торжеств и воспоминаний, обозначили вдруг всегда неожиданный поворот к весне. Череда подготовительных недель — с их масленичным весельем, но и первыми великопостными песнопениями, заставляющими в смущении умолкнуть и склонить голову, — замкнулась Прощеным воскресеньем. Испросив друг у друга прощения, православные христиане превращаются в «аскетов».
В обыденном сознании «аскет» — странный и героический отшельник, человек, предающийся умерщвлению плоти, изможденный постами и бдениями и стремящийся внешним своим обликом еще при жизни уподобиться египетской мумии, — явный анахронизм, словно бы сошедший со страниц известного романа Г.Флобера «Искушение святого Антония». Такому человеку можно сочувствовать, им можно восхищаться, но ему решительно нельзя найти места в так называемой современной жизни. Подобное суждение, столь естественное для большинства, — плод исторического беспамятства, конечно.
Вспомним для начала о том, что греческое слово «аскесис» (аскеза) переводится как «подготовка», «упражнения», а производное от него «аскетэс» (аскет) есть не что иное, как спортивная метафора. В античной Греции аскетами называли атлетов, готовящихся к Олимпийским состязаниям и потому подвергающих себя определенным ограничениям. Метафорически же на языке древних философов аскет есть упражняющийся в добродетели, особенно в обуздании неразумных порывов своей воли. Новый Завет и памятники раннехристианской письменности продолжили традицию использования античных спортивных образов и уподоблений.
«Не знаете ли, — пишет апостол Павел христианам греческого Коринфа, — что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те [т.е. атлеты] для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух...» (1 Кор. 9, 24—26).
Нам ясно теперь, что смысл аскезы — как физической, так и духовной — состоит в разумном отказе от второстепенного ради достижения главного, в преодолении физических и нравственных препятствий. Награда — венок лавровый, награда христианину — венец спасения, и потому христианский пост-аскеза направлен не на «умерщвление», но на восстановление внутренней свободы и изначальной цельности духовнотелесной сущности человека. И подвиги аскетические — это не цель, а средство, средство для борьбы за «венец нетленный», свершающейся на «ристалище» всей нашей жизни. Поэтому «аскетом» может быть назван каждый разумный христианин — монашествующий и женатый, клирик и мирянин. Конкретная же форма и степень его аскезы определяются данными им обетами, жизненным призванием и советами духовного отца.
Христианский аскетизм исходит не из противопоставления плоти и духа (которое особенно сильно в буддизме и у неоплатоников), а из необходимости привести их в состояние гармонии, пример которой явил в Своей земной жизни Богочеловек Иисус Христос. Он стал первым — после Адама до его катастрофического грехопадения — совершенным человеком, Вторым Адамом, как называет Его апостол Павел. Материальная природа, человеческая плоть — не зло. Напротив, она бесконечно ценна, ибо вся ее полнота воспринята воплотившимся и вочеловечившимся Сыном Божиим, ставшим воистину Сыном Человеческим. Тем самым Он сообщил человеческой природе потенциальную возможность — для каждого человека! — бесконечного совершенствования. Этот процесс богоуподобления именуется по-гречески «тэосис», «обожение».
Поэтому тело для христианина — не просто материальная и смертная оболочка, но — храм живущего в нем Святого Духа.
И это его новое и удивительное состояние «куплено дорогою ценою» — ценою неимоверных поношений, страданий и крестной смерти Сына Божия (1 Кор. 6, 19—20). Отсюда и осознание невозможности предать этот «храм» во власть неразумных и постыдных низших стихий, страх осквернить его.
Напротив, модный сейчас у заблудившихся в индийских джунглях псевдодуховных соблазнов наших современников (кощунственно желающих оспорить дело князя Владимира и смыть с себя воды святой купели!) брезгливый взгляд на тело как на «тюрьму» и «темницу духа» и проистекающий отсюда идеал нирваны («угасания», «небытия») означает для христианина страшную «прелесть бесовскую» — конечную степень плененности человека духом злобы. Вечно обличаемый пред лицом правды Божией, он не может ни раскаяться, ни уничтожить себя и достичь «спасительного» для него «забвения», но может лишь осуществлять это стремление в своих обольщенных последователях.
Бесчисленные духи «самоуничтожения и небытия», как называет их Ф.М. Достоевский, не имея средств уничтожить себя до конца, «требуют» от Бога «себе уничтожения». «Ненасытимы во веки веков, — говорит старец Зосима, — и прощение отвергают; Бога, зовущего их, проклинают. Бога Живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога Жизни, чтобы уничтожил Себя Бог и создание Свое.
И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти» («Братья Карамазовы»).
Древнехристианские отцы Церкви не считают аскетизм особой «профессией» или горделивой привилегией избранных, но полагают его сущность в том же, в чем кроется сущность христианства вообще. То есть, по словам св. Григория Нисского (IV век), в «подражании божескому естеству» или — в «возведении человека в древнее благополучие».
Поэтому «истинный (то есть нравственный) аскет приобретает власть над плотью не для укрепления формальных сил духа, а для лучшего содействия добру. Аскетизм, который освобождает дух от страстей постыдных лишь для того, чтобы тем крепче связать его страстями злыми... есть ложный или безнравчственный аскетизм; его первообразом, по христианским понятиям, следует признать диавола, который не ест, не пьет, не спит и пребывает в безбрачии».
Согласимся, что горделивые ревнители исключительно «гастрономического» аспекта поста избрали себе явно малопочтенный персонаж для подражания. Таким гибельным путем пошел снедаемый смертельной завистью инок Ферапонт, антагонист старца Зосимы.
|